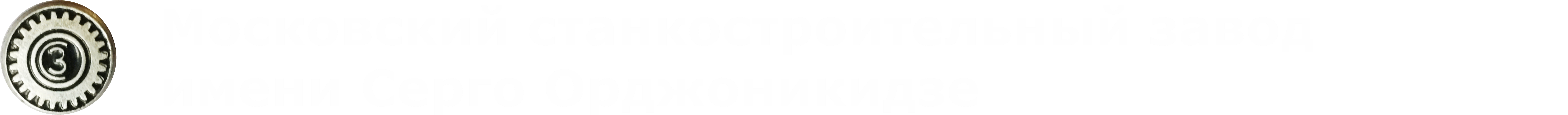Глава из книги о Чикиреве Н.С.
МЫ – ДЕТИ ГОРБАЧЁВА: НЕ ВЕДАЛИ, ЧТО ТВОРИЛИ
С.Г.ГЕНИС,
бывший начальник отдела труда и заработной платы завода имени С.Орджоникидзе
Есть расхожая истина: большое видится на расстоянии. «Видится» — значит, становится яснее, обретает реальный объем и вес. Относится это не только к БОЛЬШОМУ — фактически ко всему. Время безжалостно и неумолимо: отсеивая шелуху, отбрасывая накипь, оно расставляет оценки по своей, предельно точной шкале. То, что воспринималось со знаком «плюс», порой попадает в минусовую категорию и справедливо попадает.
Казавшееся «минусом», бывает, оборачивается «плюсом» — и опять по справедливости, возражений и быть не может. То, чем гордился, вызывает порой глубочайшее сожаление: давний предмет гордости оказывается постыдным поступком, принесшим горе тысячам людей, которые тебе поверили, пошли за тобой и — остались у разбитого корыта. Пусть ты и хотел добра, руководствовался самыми благими, самыми расчудесными намерениями — оценку определяет конечный результат, а он — хуже некуда.
Это я — о себе, о Сергее Генисе образца 1988-го года. Так уж получилось, что оказался духовным лидером группы толковых, энергичных, амбициозных молодых людей из ближайшего окружения нашего совсем недавнего кумира, генерального директора известной всему миру фирмы — «Объединения завод имени С.Орджоникидзе» Николая Сергеевича Чикирёва, которого мы вынудили, заставили уйти в отставку. Это сделали мы, взращенные Чикирёвым, выдвинутые им, мы, в которых генеральный видел свою надежду, опору, а уж если по большому счету, то и свою смену. Верилось ему, что кто-то из нас станет его преемником. Вовсе не случайно, не по капризу или прихоти он совершал кадровые передвижки по горизонтали. Сам он тридцать пять лет шел к посту генерального, поработал и за станком, и сменным мастером, и начальником цеха, и главным технологом, и замом главного инженера и главным инженером. И только изучив и освоив завод, как говорится, «от» и «до», он стал Первым.
Чего у него не отнять, так это мудрости. Он понимал, что приходит время молодых, которым просто некогда ждать целых тридцать пять лет, вот он нас и натаскивал. Воспользуюсь, как волейболист спортивной терминологией: тренер из него был что надо, он каждому подыскивал свое место, на котором выдвиженец смог бы максимально проявить свои способности. Скажу о себе. После Станкина я поработал в конструкторском бюро, был и секретарем заводского комитета комсомола (вот уж когда изучил и завод и людей!), членом парткома завода, замом начальника цеха (восемь лет — школа ещё та!). И вдруг меня, технаря, как я ни отбивался, выдвинул в начальники отдела труда и заработной платы! Для меня до сих пор загадка, как Николай Сергеевич углядел то, чего в себе я никоим образом не видел, как он понял, что я заболею этим столь новым для себя делом, почувствую себя на своем месте?! А освоиться мне как раз больше всего помогли прежние должности, особенно же работа в цехе.
Беда многих экономистов — стремление «не дать», «запретить», экономя копейки, они теряли миллионы. Я же видел свою задачу в экономическом обеспечении труда, чтоб выходило все в строгом соответствии с принципом: от каждого по способности — каждому по труду. Это было тем более актуально, что началось время широкого внедрения хозрасчета, в котором видели панацею от всех зол и бед.
На бумаге все выглядит гладко, в жизни же — сплошные овраги. Казалось бы, все просто: раз токарь Н.Н. обработал за смену положенную норму деталей, то ему за это вынь да и положь положенную сумму в рублях. И — расплатись с ним точно в срок. Его логика проста до примитива: я — сделал, за это получил. Ему нет никакого дела, что он лишь необходимый элемент в сложнейшей цепи. Во-первых, чтобы токарь Н.Н. начал что-то делать, завод должен выбить заказ на изготовление продукции, уладить финансовые взаимоотношения с заказчиком. Во-вторых (или во — первых, какая разница?), завод со смежниками сам выступает в роли заказчика.
Сплошь и рядом стало случаться, что у заказчика не было денег на оплату продукции. А раз так, то и завод был не в состоянии расплатиться со смежниками, поставщиками сырья, электроэнергии и т.д. и т.п. Исчезал спрос на производимые токарем Н.Н. детали, токарь превращался в безработного. Привыкший два раза в месяц исправно приходить домой с получкой, он вдруг оказывается у разбитого корыта. Кого он винит в этом? Мастера, который не обеспечил ему фронт работ. Мастер, в свою очередь, давит на начальника цеха, тот — на заводскую администрацию, та — на генерального директора. А тому и давить не на кого.
В такой экстремальной ситуации бушует недовольство, подогреваемое извне и изнутри, крайним объявляется генеральный директор: не сумел, не смог, прошляпил, не обеспечил, зажрался, устарел.
В цирке животных никогда не кормят перед началом представления. Дрессировщик вырабатывают у них условный рефлекс: не по-ра-бо-та-ешь — не получишь пищу. Сытая кошка ни за что на свете не полезет по шесту чуть ли не под купол. Сытая собачка не станет прыгать на спину бегущего льва или через огненный обруч. Страх голода заставит свершить не свершаемое: кошка дружит на арене с мышкой, медведь отплясывает кадриль.
Голодающих легче направить на бунт, с чувством голода просыпаются низменные инстинкты, бушующая толпа превращается в стадо, которым легко манипулировать, у стада исчезает разум, все вытесняется стремлением порушить, сокрушить, испепелить.
В конце восьмидесятых — начале девяностых оголодавшей толпе подбросили «золото»: даём вам свободу слова, собраний, митингов, даём свободу выбора, даём право ломать всё устаревшее, право жить при рыночной экономике, даже лучше, чем на Западе. Снимаются все ограничения на строительство, возводи себе хоромы хоть многоэтажные, имей первоклассных машин дюжинами, получай хоть по миллиону долларов в день — полный простор предпринимательству, предприимчивости, выход на прямые связи с иностранными бизнесменами — торгуй, Россия! Такая свобода и пьянила и завораживала: вон, сколько возможностей сразу свалилось!
Кто-то из великих заметил: мечтать не вредно. За мечтаньями упустили крохотную такую мелочь: чтобы они превратились в реалии, требуется соответствующая экономическая и производственная база. Худо-бедно, но при Советской власти была собственная база, которая и обеспечивала советский образ жизни. Свой кирпич в ее фундаменте заложил и Н.С.Чикирёв. Казалось бы, чего проще: хотите жить лучше — крепите и расширяйте базу. А начали — рушить ее, до основанья. Предприятия, входившие в систему Минстанкопрома, сократили выпуск продукции в четырнадцать раз! Без станкостроения нет роста производства, без производства мертва экономика — порочный круг замкнулся, остались одни свободы, да из них щей не сваришь.
Мудрый Чикирёв это все предвидел. В печально памятном 88-м году, когда мы, группа романтиков из ближайшего окружения Николая Сергеевича, задумала дворцовый переворот, решила освободить завод от Чикирёва, не посмотрела вперед, не задумалась: а — что же дальше? Нам казалось, что генеральный лег на рельсы, мешает набрать скорость локомотиву перемен. Самое поразительное — никто из нас, повторяю, НИКТО не претендовал на кабину машиниста, фактически место генерального освобождалось для мистера Икс, человека со стороны. Кто будет этот мистер Икс, каким, справится ли с заводом, потянет ли — ответ на эти животрепещущие, наиглавнейшие вопросы оставался за кадром.
Сразу же хочу отвести обвинение нас в предательстве. Увы, все ещё бытует мнение, что мы, кучка наполеончиков, понукаемая сверхамбициозностью, предала своего благодетеля Николая Сергеевича: он нас за уши вытащил из административного небытия, обласкал, наградил должностями, ввел в свой круг, снисходил до того, что и в баньку приглашал, многому обучил — короче, сделал из нас людей, а мы, такие-рассякие, на такое добро ответили черной неблагодарностью. Я считал и считаю неблагодарность одним из самых тяжких пороков, со страдающими им стараюсь не общаться. А тогда, под осень-88, диспозиция была крайне сложной.
Начну с того, что мы служили не лично Чикирёву, а заводу. Работая на завод, мы, естественно, работали и на Чикирёва. Если бы мы были преданны лично ему, но ничего не умели, кроме как подхватывать на лету «ценные указания», славословить в адрес генерального, то c космической скоростью вылетели бы с завода.
О требовательности Николая Сергеевича ходили легенды. Он, подобно могучему прессу, выжимал из нас все, на что мы были способны, и даже больше того. С кондачка он ничего не решал, решения принимал только взвешенные, продуманные. Когда идея была ещё в стадии проекта, обсуждения шли бурными, спорили и с самим генеральным, это было в порядке вещёй, под доводом аргументов он отступал (такое дано не каждому лидеру). Но как только решение подписывалось, отступлений не терпел и не принимал во внимание, рулил на беспрекословное выполнение.
Школа Чикирёва — это нечто! Лично меня не покидало ощущение, что я каждый божий день сдаю экзамен на право занимать свою должность. Сам предельно организованный и отмобилизованный на работу, он не терпел расхлябанности, вранья, предпочитал честность и открытость. Он мог простить ошибку, просчет, но только не сокрытие провала. В цехе происходило какое-то «чепе» — я, если не было начальника, сразу же звонил Чикирёву, информировал и докладывал о принимаемых мерах. И попробовал бы я, доложив о происшествии, ждать указаний! Чикирёв жесточайше требовал самостоятельности в пределах должностной компетенции.
Просто поразительно, что при сатанинской перегрузке он успевал читать, быть в курсе новых разработок как отечественных, так и зарубежных. У него была цепкая, назову ее так, техническая память, он нет-нет да и проверял свою Команду, растет ли она, читает ли.
Нам, каждому в отдельности, было легче, у каждого своя, узкая специализация. И если Чикирёв по чьему-то профилю знал больше, чем специализирующийся на этом, звучала коронная фраза:
— Книжки — не для украшения интерьера, они — для головы.
В мой адрес она не попадала.
Генеральный много времени проводил в кабинетах элиты руководства страны. Полученной информацией делился с нами, рассказывал о точках зрения на ту или иную проблему, о том, чего ждут от завода. Делал он это, чтобы мы ещё больше проникались ответственностью: будущее страны зависит и от нашего завода. Он и из нас формировал государственников.
Чикирёв нас пестовал и выпестовал — настолько, что мы, ничтоже сумняшества, выступили против него единым фронтом. Почему? Если совсем коротко, нам показалось, что к осени-88 он уже выдохся и потерял способность руководить с учетом новых реалий. Вместе с ним далеко уехать не мог и завод, так что операцию «Свержение» мы задумали, как нам тогда казалось, в интересах завода, которому требовалась новая кровь, иначе неминуемо дряхление.
Увы, мы оказались не на высоте положения. Мы не обладали тем что являлось достоянием генерального, — объемностью мышления. Горбачёвские новации мы принимали на ура, верили каждой букве любого перестроечного документа, кричали:
— Эврика, вот оно, долгожданное!
Оставалось одно: претворять в жизнь.
Чикирёв видел в горбачёвских деяниях программу разрушения, нам она представлялась программой созидания. Мы числили себя в авангарде перестройки, Чикирёва произвели в твердолобые консерваторы, отправили в арьергард.
Чуть выше я написал, что мы — выученики Чикирёва, что работа под его руководством дала нам очень много. Но — мы учились, но не доучились, диплом об окончании Чикирёвского университета Николай Сергеевич нам ещё не подписал бы, потому что хоть мы и считали самих себя с усами, но были ещё безусыми — и таких дров наломали, что вспомнить страшно.
Мы принимали перестроечные лозунги, переживали романтический период эйфории, что пришло НАШЕ ВРЕМЯ. За лозунгами мы не видели смерчевую отдачу от них, не углядели парадокса: чем привлекательнее лозунги, тем хуже дела в державе. Говорят, Сталин судил о жизни села по фильму «Кубанские казаки». Мы оценивали реалии жизни в стране по ещё более куцой информации. Нам казалось: раз в стране такой праздничный настрой, подъём, то и дела не могут не идти в гору.
Меж тем завод попал в жесточайший, затяжной кризис: падал спрос на продукцию, подводили смежники, рвались десятилетиями отлаженные связи. Началось самое-самое — задержки с выплатой зарплаты, нечем было расплачиваться за кредиты, росшие снежной лавиной. Я как начальник отдела труда и заработной платы не мог не видеть: завод покатился в финансовую яму, нужны срочные, экстраординарные меры. В неблагополучном государстве мы были островом благополучия. А раз перестали им быть — с кого же первый спрос, как не с хозяина, то есть с генерального директора?
Произошло полное смещёние логических категорий. Происходящее с заводом было следствием насаждаемого Горбачёвым. А мы следствие выдали за первопричину, истоки которой увидели в генеральном директоре.
Теперь-то, много лет спустя, когда рассеялся туман заблуждений, я понял, что один Чикирёв был по сути своей большим рыночником, чем вся наша команда ниспровергателей. Где появилось одно из первых советско-западногерманских совместных предприятий? На заводе имени Орджоникидзе. Кто годы пробивал разрешение? Николай Сергеевич Чикирёв. Где рабочие получали по две-три-четыре тысячи рублей в месяц? На СП, стараниями Чикирёва. Кто старался перейти на хозрасчет, задолго до появления моды на него? Снова Чикирёв. Кто расширял международные связи завода, кто стремился выйти на уровень мировых стандартов (по достижении этой цели мы не имели бы проблем со сбытом продукции, завод бы жил и выжил!)? Ответ, думаю, снова ясен. Кто больше всех страдал оттого, что надо каждый шаг согласовывать с парторганами, министерством, Госпланом, у кого руки были связаны, кто не имел права самостоятельно распоряжаться прибылью, получаемой заводом? Генеральный директор.
Чем дольше я думаю о Чикирёве, тем больше я вижу в нем предпринимателя, предприимчивого, хваткого, предусмотрительного, обязательного и, что крайне важно, честного. С ним можно было бы вести дела без заключения договоров, верить его слову. Добавьте к этому огромный талант организатора, знание производства, крепчайший профессионализм. В восемьдесят восьмом он не мог в полной мере раскрыться как рыночник — мешали административно-партийные путы. Его, опережавшего время, обвинили в косности, консерватизме, отсталости, объявили балластом.
НАМ БЫ НЕ ВОЕВАТЬ С НИМ, А СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ ЭТОГО ИСПОЛИНА. СПЛАВ МОЛОДОСТИ, ЭНЕРГИЧНОСТИ, АМБИЦИОЗ-НОСТИ, НАХАЛЬСТВА (В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ СЛОВА), ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, УМЕНЬЯ ШАГАТЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ — ЭТОТ СПЛАВ С ЧИКИРЁВЫМ МОГ БЫ СТАТЬ ЗАМАНЧИВО ПЕРСПЕКТИВНЫМ, СПАСИТЕЛЬНЫМ И ДЛЯ ЗАВОДА.
Чикирёв в нас нуждался, но видел, что мы ещё не готовы в свободное плавание.
Он долго не соглашался с нами, не хотел уходить. Больше — все-таки потому, что не видел, на кого можно оставить детище всей его жизни — завод. Говорят, он цеплялся за директорское кресло. На мой взгляд, это — враки.
Человек прагматичного, трезвого ума, он был объективен к себе. Для него, ставящего на первое место интересы завода, это и было определяющим. Надо заводу, чтобы во главе стоял Чикирёв, значит, так тому и быть. Появился на горизонте человек, который в данный момент сильнее Чикирёва, значит, и нужнее заводу, опять же – значит, так тому и быть, как бы это ни было горько и обидно. Он же сознавал: не бывает вечных директоров, каждому — своё время.
Вспоминаю свой последний разговор с ним один на один. Мы как инициаторы свержения вели подготовительную, разъяснительную работу с каждым членом коллектива. Чикирёв об этом — знал. Знал и то, что я в неформальных лидерах оппозиции. Последовало приглашение на беседу. Это были жарких два часа. Держался Николай Сергеевич с достоинством, не опускался до перебранки, не педалировал на разницу в табели о рангах, в возрасте, не дал мне понять, что он — ЧИ-КИ-РЁВ, а я, собственно, кто такой? За себя, за свою судьбу он вроде бы и не волновался, его в первую очередь заботило: что же будет с заводом?
Я разъяснил ему нашу, коллективную позицию, смысл которой был прост и ясен: заводу без Чикирёва будет лучше, с этим мы выходим и на заводскую партконференцию, больше чем уверены, что коллектив нас поддержит. Я приводил свои аргументы, Николай Сергеевич — свои, к консенсусу не пришли. И не могли прийти — по двум причинам. Первая: меня никто не уполномочивал прийти к мировому соглашению, была поставлена четкая задача — убедить генерального подать в отставку. Я считал, что если поддамся на доводы Николая Сергеевича, то предам своих единомышленников, что это будет крайне непорядочно с моей стороны, не по-мужски. Если подойти к оценке с сегодняшних позиций, то окажется: заботу о собственном реноме я поставил выше интересов завода и от этой грустной констатации никуда не уйти. Мне был сорок один год, возраст не мальчика, а мужа, но вел я себя — не по-взрослому.
И вторая причина. Естественно, Чикирёв интересовался двумя вопросами — кого мы планируем на его место и как намерены выводить завод из кризиса. Он посуровел, когда я честно признался, что преемника пока нет, как нет и детально проработанной программы спасения завода; будет новый директор, появится и программа, составленная в соответствии с линией партии и правительства на ускорение научно-технического прогресса. Большей глупости я ляпнуть не мог: Чикирёв, как никто другой, знал, что эта самая линия фундаментируется на болтовне и пустословии, ведет не вперед, а назад, не к созиданию, а к разрухе, что корабль перестройки давно дал течь и уже тонет, потянет за собой и Завод.
ВЫХОД ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МОГ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН: МЫ, МОЛОДЫЕ, ГРУППИРУЕМСЯ ВОКРУГ ЧИКИРЁВА, ВМЕС-ТЕ ПОПЫТАЕМСЯ СПАСТИ НАШ ОБЩИЙ ДОМ, ИЗ ОППОНЕНТОВ — В СОЮЗНИКИ. ПОХОЖЕ, ПРИГЛАСИВ МЕНЯ НА ВСТРЕЧУ, НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ И НАДЕЯЛСЯ ИМЕННО НА ЭТО.
ЧИКИРЁВ ПОНЯЛ: ЗАВОД НАДО ОБЕРЕГАТЬ И ОТ НАС, В КОМ ВИДЕЛ СВОЮ ОПОРУ. ПОНЯЛ И ДРУГОЕ: ОН ОСТАЛСЯ ОДИН.
Один перед неразрешимой дилеммой: и оставаться нельзя (один в поле не воин) и уходить нельзя (не на кого оставить дело всей своей жизни). Помощи и поддержки ждать было не от кого: всё тонуло и все тонули, спасателей даже кот не наплакал.
Тогда, в кабинете Николая Сергеевича, я ловил себя на мысли: мне то ли что-то мешает или же чего-то недостает. Понимаете, за два часа — ни одного телефонного звонка. Ну, какие-то телефоны он мог переключить на секретаря, но были же аппараты и прямой связи, та же «вертушка» — все молчали, словно на судьбе Николая Сергеевича уже был поставлен крест.
Отношение к Чикирёву у меня было неоднозначным, сложным, запутанным, и причиной тому зигзаги моей биографии. Мой дед по отцу был посажен ещё в тридцатые, четыре года провел в печально знаменитом СЛОНе (Соловецком Лагере Особого Назначения), выпустили его по настоянию тогдашнего прокурора СССР Акулова. Потом расстреляли и Акулова как врага народа, на двадцать лет отправили на Колыму деда, которому боком вышло заступничество самого главного прокурора страны.
Деду ещё повезло, живым дождался полной реабилитации. Отец, как сын немца, попал в интернациональный детский дом вместе с Маркусом Вольфом, сыном известного немецкого писателя Фридриха Вольфа. С Маркусом Вольфом, многолетним руководителем МГБ Германской Демократической Республики, организатором знаменитой шпионской службы «ШТАЗИ», отец дружит до сих пор. Вольф, бывая в Москве, всегда гостюет в доме отца. В марте 2001-го года я был несказанно удивлен, как же тесен мир: оказывается, дядя Маркус был десятки лет в друзьях бывшего председателя КГБ СССР В.Е.Семичастного, который, в свою очередь, ещё с начала пятидесятых (был тогда секретарем ЦК ВЛКСМ) приметил талантливого токаря Николая Чикирёва, помог его семье переехать из комнатушки под лестницей в «высотку» на площади Восстания, они тоже дружили больше сорока лет, Владимир Ефимович был и на похоронах Николая Сергеевича!
У нас дружная семья, прекрасные отношения с отцом и матерью. Конфликт с мамой (она по фамилии Костромина) был лишь один, когда я получал паспорт, и надо было решать, кто же я по национальности — немец как папа или русский как мать. Она настаивала, чтобы паспорт был на русского, Костромина Сергея, я же считал, что у сына должно быть все отцовское. Матери сказал:
— Ну какой же я русский с таким отчеством — «Сергей Гельмутович»?
Она умоляла:
— Тебе будет лучше жить Костроминым, русским.
— Что ты говоришь? Мы же живем в Советском Союзе!!!
— Вот именно: мы живем в Советском Союзе…
Я настоял на своём, паспорт получил немец Сергей Гельмутович Генис. По призванию я физик, с золотой медалью окончил физико-математическую спецшколу, несчетное число раз побеждал на всевозможных физических олимпиадах. Несу документы в приемную комиссию физического факультета МГУ — куда же ещё?! Только на физфак! И — не прохожу мандатную комиссию: немца в физики не пустили, мама оказалась права, я жил в Советском Союзе. Это был шок, крушение всех надежд и планов.
Немецкая кровь заставляла меня всё раскладывать по полочкам, разложил и я: студент, аспирант, кандидат наук, доктор, членкор Академии наук — был сверхубежден, что все так и получится. Так бы и вышло, если бы не пресловутый пятый пункт анкеты.
Я не стал тем, кем был бы должен стать, это рана из не рубцующихся. Я, убежденный патриот, получил нокаут такой силы, что продолжаю его чувствовать и тридцать с лишним лет спустя. Я не отношусь к злопамятным, но ЭТО я не забывал и не забуду.
Но учиться надо. Пошел туда, где конкурса почти не было, где пятый пункт не принимался во внимание, — в Станкин. Институт хороший, с богатыми традициями, но это был не мой институт. Я намеревался заниматься фундаментальной наукой, а тут железки, обработка металла — НЕ МОЁ. Мне до сих пор не по себе, когда попадается академический сборник «Успехи физических наук». В призвании я однолюб… Брака с физикой, который был запрограммирован стать счастливым, увы, не случилось. История с «пятым пунктом» наложилась и на память о репрессированных деде с бабушкой, сиротстве отца при живых родителях. Мать подвела под это черту, свела к общему знаменателю:
— Мы живем в Советском Союзе…
Генетически я был запрограммирован на иную судьбу, но гены оказались бессильны перед политикой. Каким бы неудачным руководителем ни был Горбачёв, но лично мне он — гласностью, свободой слова — открыл глаза на собственную страну. Я жаждал решительных, крутых перемен, к этому меня толкала судьба и моих близких, и моя собственная: я не хотел, чтобы история пошла по второму кругу.
Это тоже сыграло свою роль в бунте против Чикирёва, который на тот момент был для меня носителем и защитником всего со-вет-ско-го. А я не хотел, чтобы всё со-вет-ское сохранилось, нам представлялась крайне необходимой основательная химчистка Системы.
Мы не посягали на основы, никак не предполагали, что возможна реставрация капитализма. Мы свято верили, что Система сама по себе хорошая, только стране не повезло с исполнителями-руководителями, поэтому требуется коренная перестройка внутри: оставляя корпус, остов, все переиначить. Чикирёв, по нашим представлениям, в преображенную Систему не вписывался. Именно поэтому консенсус его с нами напрочь исключался.
Николай Сергеевич понимал, что его со всех сторон обложили флажками. Партком существовал лишь номинально, его слово перестало быть решающим, оказалось никаким. Заводская парторганизация задолго до партконференции отказала парткому в доверии. То же произошло и с завкомом. В треугольнике «генеральный — партком — завком» осталась лишь одна сторона. Стол держится и на трех ногах, на одной ни за что не устоит.
Сверху поддержки тоже не оказалось. Николай Сергеевич не стал дожидаться, назову так, импичмента, ушел по собственному желанию. Мы одержали победу, которая в тысячу крат была хуже пирровой: одолев Чикирёва, мы, в конечном итоге, проиграли себя самим себе, вырыли яму и заводу и себе.
После Великой французской революции стала крылатой фраза: революция пожирает своих героев. Отнюдь не претендуя на лавры Дантона, Робеспьера или Марата, лишённых жизни революцией, хочу сказать, что наша так называемая победа больнее ударила по нам, организаторам.
Нас, новый партком пригласил к себе секретарь горкома партии по промышленности Королёв, ранее директорствовавший на заводе «Красный пролетарий», который находился по соседству с нами. Задал вопрос по существу:
— Кого будете рекомендовать в генеральные?
Простой вопрос нас обескуражил, мы — промолчали.
— Может быть, вы возьметесь? — обратился Королёв ко мне.
Я понял, его проинформировали, что Генис — ключевая фигура. Услышав, что и я отказываюсь от столь почетного предложения, Королёв впал в состояние прострации. Он не понимал, отказывался понимать, чего же мы добивались.
В семнадцатом году на Всероссийском съезде Советов большевики были в явном меньшинстве. И когда председательствую-щий констатировал, что в данный момент в стране нет партии, которая решилась бы взять на себя историческую ответственность за судьбы России, из зала раздался голос Ленина: «Есть такая партия!» И вскоре случился октябрьский переворот, бывшая в меньшинстве партия пришла к власти. Нахальство — второе счастье…
В кабинете секретаря горкома было десять молодых, авторитетных, знающих производство, получивших единодушную поддержку коллектива, готовая Команда. Я не в видел себя в генеральных, но был готов всеми силами помогать новому Первому. Мне трудно судить, почему никто не заявил: «Есть генеральный, я берусь!» Никто никого не предложил. И если ещё оставался хоть призрачный шанс на спасение завода, в горкомовском кабинете судьба предприятия была решена, в директорах оказался худший из худших вариантов — Панов. Нас он «отстреливал» поодиночке. Первая «пуля» досталась, естественно, мне:
— Мы не сработаемся, — вскорости поставил меня перед выбором без выбора новый генеральный.
Сработаться с ним было невозможно. Чикирёва отличала чистота дел и помыслов. У Панова главенствовал хватательный рефлекс архистяжателя. Завод начали растаскивать. Не осталось на заводе никого, кто мог бы воспрепятствовать алчному директору.
Если объективно, самыми злейшими врагами завода оказались мы, своей интеллигентской робостью, нерешительностью, ложной скромностью открывшие двери перед Пановым. Это очень безответственно — уходить от ответственности, что мы продемонстрировали в кабинете Королева. Наказание не заставило себя ждать бумерангом
К стыду своему, не могу не сказать, что кое-кто из Команды оказался не на высоте и по личностным качествам: непосильна им оказалась ноша победы. Показалось им, что теперь-то и море по колено, не расставались с бутылкой, бражничали прямо на заводе, требовали себе, пьяненьким, номенклатурных благ. Новый партком вошел в историю завода как «пьяный партком». А кто будет сотрудничать с пропойцами? Панову же дай лишь повод… Впрочем, Панов в этом не оригинален: ещё с советских времен повелось — был бы человек, а повод всегда найдется.
С выдворением, с выдавливанием команды бунтарей завод был обескровлен. Как бы то ни было, эта команда формировалась, подбиралась, взращивалась Николаем Сергеевичем, а у него был прямо-таки исключительный нюх на перспективных работников.
Надеюсь, меня не обвинят в нескромности за подобное утверждение, поскольку в неформальных лидерах чикирёвских избранников без всякого голосования пребывал я, Генис Сергей Гельмутович, значит, чего-то стоил.
Наставником Николай Сергеевич был далеко не ординарным.
…Примерно за полгода до тех, роковых месяцев взбунтовался один из цехов, прекратил работу. (Взбунтовался — это тогда входило в моду. Раньше, до перестройки, за это бы так не погладили по голове, что смутьяны зареклись бы повторить подобное, внукам-правнукам завещали бы никогда не лезть на рожон. Во времена вседозволенности, уговаривания, вирус непослушания оказался инфекционным.) По какому поводу, из-за кого или из-за чего — не помню. Чикирёв взял меня с собой, хотя и не представляю, чем я мог быть полезен в подобной критической ситуации.
Генеральный попросил всех приблизиться к нему, ещё и пошутил:
— Вы же знаете, глотка у меня не луженая, не то, что у басов Большого театра, кричать я не умею и не хочу уметь, да в рабочей семье кричать и не принято. Скажу вам сразу: был бы я на вашем месте, тоже стоял бы сейчас перед генеральным директором, предъявил справедливые претензии. То, что произошло, моя недоработка, заслуживаю за это выговора, пусть и не самого строгого, но взыскания. Но вы уж извините, сам себе выговор в приказе выносить не стану, как не стану и министра просить, чтобы влупил мне выговорешник. У меня их и так столько, что на мне все и не помещаются. А теперь — перейдем к делу…
Я был свидетелем чуда: наэлектризованная толпа, готовая разорвать кого угодно, минут через пятнадцать разошлась по рабочим местам, конфликт был полностью исчерпан. Люди прятали глаза от генерального, им было стыдно, что разгорячились из-за сущей безделицы. Чикирёв, уходя, бросил начальнику цеха:
— Выяви закоперщиков, выведи их на чистую воду, устрой такую жизнь, чтоб по собственному … вылетели за проходную.
Я смотрел на Николая Сергеевича сам не свой от охватившего меня восторга. Потом задумался: для чего же, все-таки, он брал меня с собой? Чтобы я стал зрителем захватывающего спектакля одного актера? Нет, это исключалось, Чикирёв всегда играл только одну роль — самого себя. Неожиданно меня осенило: раз я в кадровой колоде директора, он, подобно вожаку стаи Акеле из киплинговского «Маугли», натаскивал меня, щенка, готовил к взрослой жизни, собственным примером: делай, как я, туши пламя в зародыше, грудью вперед, на опасность, ничего и никогда не страшись, ты ж для стаи самый смелый, самый сильный и решительный, самый умный и опытный, именно поэтому ты самый ответственный за её судьбу.
За эти четверть часа умирения недовольных я получил столько спрессованной информации, сколько не нашел бы и в тысяче самых толковых книг. Я увидел перед толпой не просто генерального директора — гораздо больше: тонкого психолога, знающего наставника, руководителя, не бросающегося пустыми обещаньями, и, если хотите, сурового, требовательного отца своих подчиненных, отца-начальника, который, не подавая виду, любит своих детей, даже самых непутевых. Отца предусмотрительного, пастыря, который знает: паршивая овца все стадо испортит.
Я получил практический урок реализации на практике постулатов теории управления. Ещё сравнение из спорта, из моего любимого волейбола. В команде шесть человек, судьба игры в руках каждого. И все же особо ценится способность вытаскивать самый безнадежный мяч в миллиметрах от площадки.
Чикирёв из тех, кто бросался за самым безнадежным мячом, не терялся в самой безысходной ситуации. Научиться этому невозможно, это — от бога: в ключевой момент — в нужном месте, вытащить безнадёгу, да ещё и пас точный отдать, спасти партию, а с ней и игру. На ниве управления Чикирёв был великим игроком и одновременно великим тренером-наставником.
Пишу это и вижу скептические улыбки: коли ты так превозносишь Николая Сергеевича, чего же попёр против него? Отвечу: жизнь как спорт, и в спорте как в жизни, неумолимо настает момент ухода даже самого великого из игроков и тренеров, лучше всего — в зените славы, по достижении пика формы. История спорта знает полно случаев, когда игроки затевали бунт против тренеров-корифеев и добивались их снятия. Бывало, что ученики перерастали учителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спорый рост команды — заслуга тренера, который — увы, увы, увы! — тем самым копал под собой.
Так что наш бунт во многом заслуга и Николая Сергеевича: в какой-то момент нам привиделось, что мы его обогнали — не каждый порознь, а — командой. Если взять умения и навыки каждого из нас в определенной, узкой специализации, то Чикирёв оказывался в отстающих. Складываем весь наш интеллектуальный, профессиональный и организаторский потенциал на одну чашу весов, на другую — потенциал Николая Сергеевича, думаю, перевес остался бы на нашей стороне. Но — один из постулатов теории управления гласит: решение — коллегиально, ответственность — единолична. Единолична! Не мог генеральный директор состоять из десяти-двенадцати человек. Лично я мог бы заполнить директорскую нишу максимум на 5-6 процентов. Сообща, повторяю, мы были сильнее, но Чикирёв весомо превосходил каждого из нас в отдельности. Вот почему среди нас и не нашлось достойного преемника.
Должен сказать, что Николай Сергеевич к тому, смутному времени интуитивно чувствовал, что вожжи выпадают из рук. Утверждаю это на основании собственных впечатлений.
Как начальник отдела труда и заработной платы я регулярно встречался с генеральным: отчитывался о проделанном, получал новые задачи. Были обычные рабочие беседы, если бы не одно «но». Николай Сергеевич подробно расспрашивал меня о сослуживцах, выпытывал моё мнение о них как специалистах, интересовался и тем, каковы они в быту, честны ли.
Мне с моим болезненно обострённым чувством справедливости отвечать на подобные вопросы было неприятно: мне казалось, что из меня делают что-то вроде доносчика. И сколько я себя ни убеждал, что все нормально, руководитель должен знать всё, а если не всё, то как можно больше, о своих подчиненных, неловкость не проходила. Всё встало на своё место, когда в порыве откровенности директор достал из ящика стола книжечку с записями и с силой стукнул ею по столу:
— Вот они все у меня где! Тут на каждого столько, что все у меня в руках, все!
Наверное, я так никогда и не повзрослею, хотя уже на шестом десятке: был и остаюсь при мнении, что сбор компромата противопоказан любому руководителю, что от скомпрометированных нужно незамедлительно избавляться. Гнильё не может быть опорой, не может быть и полноценным работником: с головой на плахе какая уж работа? На это мог пойти только слабеющий руководитель. У Николая Сергеевича слабинка уже была, хотя и находился в ореоле всенародной славы. Рано или поздно слабинка привела бы его к бесперспективности.
Вокруг Ельцина было полно патентованного жулья, окружение формировалось по принципу: знаю, что сукин сын, но это МОЙ сукин сын! Не команда, а какой-то калейдоскоп, чехарда из приходящих и уходящих, ну и каков результат? Где теперь Ельцин, кем он остался в памяти народной? Где его прихлебатели, на зарплату в триста-четыреста долларов возведшие миллионные особняки? Такое старику-Хоттабычу было не под силу!
Это тоже трагедия Николая Сергеевича: сам исключительно честный, я бы сказал просто патологически честный, он вынужденно терпел в окружении не очень-то чистоплотных. Долго это продолжаться не могло.
Наш бунт закончился для Николая Сергеевича трагически. Трагически бесславно он закончился и для нас, бунтарей, с ярмарки мы поехали сорокалетними. Винить в этом некого, кроме самих себя… А ведь мне лично ни с кем так хорошо не работалось, как с Николаем Сергеевичем. Ни с кем! И никто мне столько не дал, сколько я получил от Николая Сергеевича, никто! Но увы …
Что было, то было.